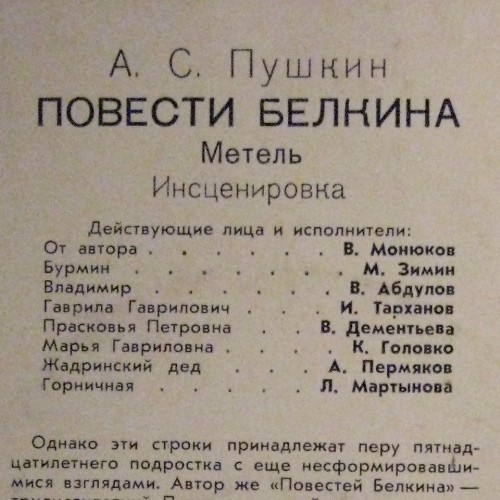4 дня
О сайте



МЕТЕЛЬ
От автора — Виктор Монюков
Бурмин — Михаил Зимин
Владимир — Всеволод Абдулов
Гаврила Гаврилович — Иван Тарханов
Прасковья Петровна — Валерия Дементьева
Мария Гавриловна — Кира Головко
Жадринский дед — Александр Пермяков
Горничная — Любовь Мартынова
Инсценировка Виктора Монюкова и Валерия Михайловского
Повести «Метель» предпослан эпиграф из романтической баллады Жуковского «Светлана»:
«Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокий...
Вот в сторонке божий храм
Виден одинокий.
Вдруг метелица кругом:
Снег валит клоками;
Черный врам, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы!
Мотивы метели, божьего храма, таинственных предзнаменований перекликаются с сюжетом пушкинской повести. История, рассказанная в «Метели», романтична. Пушкин искусно строит позицию повести – до последней строки читатели не догадываются о неожиданной развязке, с интересом следят за романтическими приключениями. Однако Пушкин, используя романтический сюжет, создает реалистическую повесть. Поэтому к своим романтическим героям он относится с легкой иронией. С добродушной насмешкой описывает Пушкин Марью Гавриловну, «стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу», полковника Бурмина, который явился перед героиней «с Георгием в петлице и с интересной бледностию». Пожалуй, менее всего ироничен Пушкин по отношению к Владимиру, бедному армейскому прапорщику. В драматических тонах пишет Пушкин о его борьбе с метелью, сдержанно сообщает потом о его гибели на войне 1812 года.
Изображение войны 1812 года в повести «Метель» представляет особый интерес. Здесь в картину возвращения русской армии на Родину включено следующее авторское отступление: «Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове отечество! Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него какая была минута»! Восторженная патетика, верноподданнический патриотизм, неглубокая оценка важнейшего периода русской истории, данная здесь Пушкиным, заставляют вспомнить его лицейское стихотворение «Воспоминания в Царском Селе», где он пишет о тех же событиях, примерно теми же словами с той же интонацией:
«Вострепещи, тиран! Уж близок час паденья,
Ты в каждом ратнике узришь богатыря.
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За веру, за царя»
Однако эти строки принадлежат перу пятнадцатилетнего подростка с еще несформировавшимися взглядами. Автор же «Повестей Белкина» – тридцатилетний Пушкин, великий писатель и мыслитель. Неужели его суждения не изменились?
По счастливой случайности до нас дошло свидетельство о том, что в это время Пушкин переосмыслил и дал глубокую исторически верную оценку 1812 года. Историку литературы П. О. Морозову мы обязаны расшифровкой десятой главы «Евгения Онегина», которая была создана и уничтожена Пушкиным в болдинскую осень.
К этому времени Пушкин уже прошел суровую школу жизни, Он испытал горечь изгнания и боль утраты близких друзей — декабристов. От юношеского восторга и былых иллюзий не осталось и следа.
«Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда».
Такую убийственную характеристику дает Пушкин Александру I в десятой главе «Евгения Онегина», и он же пишет в «Метели»: «С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю!»
«Гроза двенадцатого года
Настала. Кто тут нам помог:
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?»
Мрачный скептицизм этого горького раздумья о судьбах Родины представляет собой разительный контраст патетическим восклицаниям в «Метели». Однако и здесь Пушкин не погрешил против истины. Авторское отступление в «Метели» является своеобразной стилизацией и обобщением общепринятых высказываний современников о войне с Наполеоном. Только такая, в известной степени официальная, оценка исторических событий 1812 года могла появиться в печати. Неслучайно Пушкин писал Плетневу об издании «Повестей Белкина»: «Отдай их в цензуру земскую не удельную...». Верховным цензором Пушкина в это время был Николай I. Если Пушкин тревожился даже за будущее «Повестей Белкина», то о напечатании десятой главы «Евгения Онегина», где война 1812 года изображалась как преддверие революционного движении декабристов, не могло быть и речи. Вокруг Пушкина уже создавалась атмосфера доносов и травли. Опасаясь обыска, он сжег десятую главу. «19 сит. сожж. 10 песнь» — по старинной иронии судьбы Пушкин сделал эту запись именно на рукописи «Метели».
От автора — Виктор Монюков
Бурмин — Михаил Зимин
Владимир — Всеволод Абдулов
Гаврила Гаврилович — Иван Тарханов
Прасковья Петровна — Валерия Дементьева
Мария Гавриловна — Кира Головко
Жадринский дед — Александр Пермяков
Горничная — Любовь Мартынова
Инсценировка Виктора Монюкова и Валерия Михайловского
Повести «Метель» предпослан эпиграф из романтической баллады Жуковского «Светлана»:
«Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокий...
Вот в сторонке божий храм
Виден одинокий.
Вдруг метелица кругом:
Снег валит клоками;
Черный врам, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы!
Мотивы метели, божьего храма, таинственных предзнаменований перекликаются с сюжетом пушкинской повести. История, рассказанная в «Метели», романтична. Пушкин искусно строит позицию повести – до последней строки читатели не догадываются о неожиданной развязке, с интересом следят за романтическими приключениями. Однако Пушкин, используя романтический сюжет, создает реалистическую повесть. Поэтому к своим романтическим героям он относится с легкой иронией. С добродушной насмешкой описывает Пушкин Марью Гавриловну, «стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу», полковника Бурмина, который явился перед героиней «с Георгием в петлице и с интересной бледностию». Пожалуй, менее всего ироничен Пушкин по отношению к Владимиру, бедному армейскому прапорщику. В драматических тонах пишет Пушкин о его борьбе с метелью, сдержанно сообщает потом о его гибели на войне 1812 года.
Изображение войны 1812 года в повести «Метель» представляет особый интерес. Здесь в картину возвращения русской армии на Родину включено следующее авторское отступление: «Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове отечество! Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него какая была минута»! Восторженная патетика, верноподданнический патриотизм, неглубокая оценка важнейшего периода русской истории, данная здесь Пушкиным, заставляют вспомнить его лицейское стихотворение «Воспоминания в Царском Селе», где он пишет о тех же событиях, примерно теми же словами с той же интонацией:
«Вострепещи, тиран! Уж близок час паденья,
Ты в каждом ратнике узришь богатыря.
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За веру, за царя»
Однако эти строки принадлежат перу пятнадцатилетнего подростка с еще несформировавшимися взглядами. Автор же «Повестей Белкина» – тридцатилетний Пушкин, великий писатель и мыслитель. Неужели его суждения не изменились?
По счастливой случайности до нас дошло свидетельство о том, что в это время Пушкин переосмыслил и дал глубокую исторически верную оценку 1812 года. Историку литературы П. О. Морозову мы обязаны расшифровкой десятой главы «Евгения Онегина», которая была создана и уничтожена Пушкиным в болдинскую осень.
К этому времени Пушкин уже прошел суровую школу жизни, Он испытал горечь изгнания и боль утраты близких друзей — декабристов. От юношеского восторга и былых иллюзий не осталось и следа.
«Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда».
Такую убийственную характеристику дает Пушкин Александру I в десятой главе «Евгения Онегина», и он же пишет в «Метели»: «С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю!»
«Гроза двенадцатого года
Настала. Кто тут нам помог:
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?»
Мрачный скептицизм этого горького раздумья о судьбах Родины представляет собой разительный контраст патетическим восклицаниям в «Метели». Однако и здесь Пушкин не погрешил против истины. Авторское отступление в «Метели» является своеобразной стилизацией и обобщением общепринятых высказываний современников о войне с Наполеоном. Только такая, в известной степени официальная, оценка исторических событий 1812 года могла появиться в печати. Неслучайно Пушкин писал Плетневу об издании «Повестей Белкина»: «Отдай их в цензуру земскую не удельную...». Верховным цензором Пушкина в это время был Николай I. Если Пушкин тревожился даже за будущее «Повестей Белкина», то о напечатании десятой главы «Евгения Онегина», где война 1812 года изображалась как преддверие революционного движении декабристов, не могло быть и речи. Вокруг Пушкина уже создавалась атмосфера доносов и травли. Опасаясь обыска, он сжег десятую главу. «19 сит. сожж. 10 песнь» — по старинной иронии судьбы Пушкин сделал эту запись именно на рукописи «Метели».